1 марта 2019 г., 14:12
7K
Если Ферранте ваш друг, Гинзбург — наставник: литературный мир Наталии Гинзбург
Давно известная на родине, в Италии, сейчас писательница покоряет читателей в Британии, благодаря ее живым краскам в описании семейной жизни, женской доли, послевоенных трудностей и надежды.
Автор: Лара Лейгель
Переводчик: Евгений Волков
1941 года, в Абруццо, где Наталия Гинзбург с тремя детьми ждала окончания войны, пришла открытка от итальянского писателя Чезаре Павезе следующего содержания: «Дорогая Наталия, прекрати рожать детей и напиши наконец-то книгу лучше моей». Результат не заставил себя долго ждать, уже в 1942 году выходит ее книга «Дорога в город» , правда, под псевдонимом, так как в то время ее мужа Леоне Гинзбурга (коллега Павезе в издательстве Эйнауди; (известный как Лев Гинзбург, его семья эмигрировала из Одессы сначала в Берлин, затем в Турин – прим. пер.)) разыскивали за его антифашистскую деятельность. Тогда началась ее писательская карьера длиною в 50 лет. Гинзбург была вдохновлена творчеством Павезе и позже была счастлива творить в неореализме, литературном течении, которое нашло свой отклик и в итальянском кинематографе. Она видела неореализм как возможность быть ближе к жизни, проникнуться ею. Но ее слово всегда отличалось: холодное в разоблачении ложных чувств, и в то же время теплое, с вниманием к деталям семейной жизни.
Гинзбург всегда была известной в Италии как писательница и издатель (она работала вместе с Павезе и Итало Кальвино в издательстве Эйнауди после войны), а еще как политик; в 1983 году она беспартийно была избрана в итальянский парламент, где регулярно выступала с докладами о насилии над женщинами, разоружении и деградации сельской жизни. При этом ее читали куда меньше в Британии, чем других неореалистов до последнего времени, когда в издательстве Доунт были переизданы ее сборник эссе «Le piccole virtù» (Маленькие достоинства) и роман 1963 года «Семейные беседы» . В текущее время они собираются переиздать ее роман 1961 года «Вечерние голоса».
Читая ее книги, полагаю, я не одна ощущаю откровенную близость. В каком-то смысле, это похоже на Элену Ферранте, но лишь с той разницей, что читать Ферранте – это как заводить дружбу, а в случае с Гинзбург – обзавестись личным наставником. То есть тем, кто делится с вами своим личным опытом на счет повседневной жизни, но при этом также вносит абсолютно сформированный концепт морали, дает вам в руки интеллектуальный компас, который позволяет посмотреть на этот опыт более объективно. Начиная с маленьких деталей домашней жизни, она выстраивает целостную моральность романа 19 столетия.
В ее эссе «Маленькие достоинства» идет речь о последствиях Второй мировой войны, где писательница анализирует те года со всеми их «достоинствами»: изношенная одежда, нехватка продовольствия и эмоциональное опустошение. В «Зиме в Абруццо» она обнажает свою жизнь в деревне в военное время, отрывисто описывая смерть мужа в тюрьме в 1943 году. Она спрашивает: «Действительно ли все это случилось с нами? С нами, которые покупали апельсины в лавке у Джиро и гуляли зимой под снегом?» (отрывок из новеллы «Зима в Абруццо»). «Подбивания итогов» войны продолжаются в рассказе «Сын человека», написанного в 1946-м: «Во время войны люди видели такое большое количество домов, стертых с лица земли, что перестали чувствовать себя в безопасности в своем собственном доме».
Сборник эссе заканчивается двумя шедеврами, которые поднимают наружу моральную глыбу. Первое из них, «Human Relationships», очень проникновенно рассказывает о процессе перехода от детства к зрелости. Гинзбург пишет непривычно, но очень уверенно, используя первое лицо во множественном числе, она делится «нашими» противоречиями с родителями, нашим поиском настоящего друга и настоящей любви, переходя затем к теме материнства и войны. Здесь представлена вся жизнь как она есть, лишь в миниатюре, чтобы сосредоточиться на ежедневных деталях. Она задает основополагающие вопросы о том, как мы, будучи моральными созданиями, которые любят своих детей, друзей и близких, в то же самое время можем служить высшей цели (Богу и коммунистической догме коллективизма). Парадокс материнства заключается в его эгоизме: «Мы любим наших детей так пугающе и болезненно, что кажется, будто мы никогда не имели никого ближе... где же сейчас Бог? Мы вспоминаем о Боге только когда наш ребенок болеет». Все это меняется с войной, когда ей приходится учиться просить помощи у незнакомца. Какое-то время она все еще отказывается от вещей и людей, которые меняются в процессе взросления. «Мы – взрослые, потому что за спиной у нас хранят молчание те, кто умерли, у которых мы просим судить о наших действиях, и у которых мы просим прощения за обиды».

В финальном эссе «Маленькие достоинства» писательница пишет о том, чему мы должны учить детей: «Я думаю, что они должны обрести не маленькие достоинства, но большие: не скупость, а щедрость и безразличие к деньгам; не озабоченность, а отвагу и понятие опасности; не хитрость, а искренность и любовь к правде; не деликатность, а любовь к ближнему и самоотдаче; не стремление к успеху, а стремление к существованию и знанию». С другой стороны, подобные советы могут быть не совсем привлекательны, но они добыты через жизненный опыт. Эти ценности проходят красной нитью в «Семейных беседах», первом коммерчески успешном романе Гинзбург, опубликованном, когда ей исполнилось уже 47 лет. В нем описана ранняя жизнь писательницы, когда та жила в Турине, с отцом, биологом и евреем по национальности, и мамой, католичкой, любительницей музыки; семья постоянно вела споры о политике. Название книги (досл. «Семейная лексика») говорящее – это фразы, которые характеризуют каждого человека, фразы, которые стали «нашей латынью, словарем нашего прошлого», которое однажды разрушит война.
Гинзбург постоянно адресует вопросы о литературе и политике. Итало Кальвино в своем «Отшельнике в Париже» пишет, что «атмосфера бедности и лихорадочные усилия» в послевоенные годы вдохновляли ту часть его поколения, которая имела левые взгляды и желание действовать. Гинзбург описывает возбужденность от лихорадки: «Когда каждый возомнил из себя политиком или поэтом», и затем обнаружив, что «многие слова уже были в обиходе и реальность оказалась помещена на кончике пальца каждого». Следуя дальше, она показывает это в еще более зловещем свете: «Общей ошибкой было полагать, что все может быть превращено в поэзию и слова. Все это вылилось в отвращение к поэзии и словам... в результате чего все молчали, оцепеневшие скукой и тошнотворным состоянием. Для писателей было необходимо выбирать их собственные слова, анализировать их, проверять их на прочность и соотносить с реальностью их личного опыта».
Все эти метания характеризуют неореализм со всей его двойственностью настоящего опыта и выдуманного таким образом, чтобы он нашел новые художественные формы, которые бы сделали его реальным вновь. При написании «Семейных бесед» Гинзбург находит собственный способ достичь этого эффекта, связывая словами все, что вносит жизнь не только в ее семью, но и во все сообщество в целом. Она раздумывает, можно ли использовать эти слова, чтобы создать реальность, и может ли после фашизма образоваться честное и лишенное лжи общество. И делает она это открыто, как женщина. В эссе 1949 года «Мое призвание» она описывает свои ранние попытки писать как мужчина, используя иронию и вульгарность, и затем, после рождения детей, осознает, что писать искренно она может лишь как женщина: «Я не хотела больше писать как мужчина, потому что у меня появились дети, я научилась делать томатный соус, и даже если я не могла использовать это в моих историях, это все равно помогло обнаружить мое призвание». Это один из тех случаев, когда я нашла Гинзбург столь вдохновляющей, как наставницу из прошлого. Она предлагает писательницам наши бытовые познания не как тему для сочинений, а как одну из деталей, которую можно использовать, когда пишешь о вещах более сложных.
«Вечерние голоса» была издана двумя года раньше «Семейных бесед», и в каком-то смысле проводит параллель со второй, где писательница искала те самые слова, которые имели бы начало в нашем подлинном жизненном опыте. В то время она жила в Британии, очень часто читая романы английской писательницы Айви Комптон-Бернетт, диалогами которой была вдохновлена. Мне показалось, что эта работа была более искусной в смысле повествования, чем «Семейные беседы», где автор абсорбирует свой жизненный опыт. В своем предисловии к «Маленьким достоинствам» Рейчел Каск, среди прочего, превозносит Гинзбург за разделение понятия повествования и «самоповествования», делая таким образом большой шаг на пути к представлению настоящего реализма. Каск нашла в сочинениях Гинзбург отображения ее недавней трилогии. Несомненно, Гинзбург указывает на тщетность давления на личность, частично это и политическое заявление того, кто однажды состоял в рядах коммунистической партии, и того, кто продолжал разделять ее взгляды, даже после того, как она оставила ее ряды.
«Вечерние голоса» часто недопонимают, путая истинный смысл. Первая половина книги коротко рассказывает истории о семье Де Франчиши, владельцах фабрики, которая истощает едкий запах на всю округу. Как и в «Семейных беседах», персонажи описываются несколькими «говорящими» героями (сыном, который занимается психоанализом, и его женой, которая постоянно пудрит себе нос). Хотя нам понятно, что этот рассказ отражает действительность общества, мы все же удивляемся, почему главный рассказчик, Эльза, угощает нас этими историями. Затем становится ясно, что у Эльзы был не совсем счастливый роман с Томмазино, одним из сыновей семьи Де Франчиши. После этого события сосредотачиваются на изнурявших отношениях Эльзы и Томмазино. Их тайные вечера, проведенные за разговорами и занятиями любовью, сменяются формальной помолвкой, и Томмазино чувствует, что он перестал слушать свое сердце. Эти отношения демонстрируют всю ту скуку и тоску, которые были присущи в послевоенный период, позволяя тем самым Гинзбург показать потерянное поколение в его болезненности и жестокости, оставленных войной.
Ближе к концу Томмазино говорит Эльзе, что он больше не может так продолжать, потому что чувствует, что «они уже жили достаточно, те они, которые жили до меня; что они уже истребили все запасы, всю жизненную энергию, которая была нам уготована». Это возвращает нас к дилемме, которая была изложена в «Human Relationships» и в «Семейных беседах». С этими дилеммами сталкивались также Кальвино и Павезе (чье самоубийство преследовало Гинзборг и Кальвно всю жизнь (Павезе покончил с собой 26 августа 1950 года в номере туринской гостиницы «Рома», приняв чрезмерную дозу снотворного и оставив записку: «Прощаю всех и прошу всех простить меня. Не судачьте обо мне слишком» – прим. пер.)). Как сохранять энергию в послевоенном мире, которая будет создавать, а не отравлять; как жить личности в обществе, сохраняя саму себя; как выжить среди суждения безмолвных мертвых.



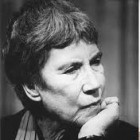
Комментариев пока нет — ваш может стать первым
Поделитесь мнением с другими читателями!