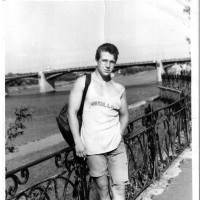Больше историй
8 мая 2019 г. 18:22
524
О трамвае, осязаемости вещей и современной пропаганде
На днях сын спросил, почему я хочу, чтобы в нашем городе был трамвай. Ведь мы всегда ходим по городу пешком, благо живем недалеко от центра. И этот простой вопрос вдруг заставил меня задуматься не о бытовом (то есть об удобстве и перспективности электротранспорта для больших городов), а о вечном: о значении символов, о надежности простых, осязаемых вещей и о пропаганде.
Я ответил сыну, что трамвайные пути — это как бы нити, которые прошивают город и не дают ему расползтись. А еще они для меня символизируют некую связь времен. Ведь в конце XIX и начале XX века такими нитями для России были железные дороги, вокруг которых в абсолютной глуши возникала цивилизация.
Поэтому рельсы и провода напоминают мне о дедушке, который всю жизнь работал на железной дороге, и о бабушке, которая всю жизнь трудилась на телеграфе. А еще рельсы, провода и прибывающий по расписанию общественный транспорт вызывают у меня чувство защищенности. Хорошо работающий транспорт ненавязчиво напоминает горожанам, что государство заботится о своих гражданах, что оно работает эффективно и что у него, у государства все под контролем.
Бывало в конце 80-х видишь ночью трамвай на Силикатке или Соминке, и на душе вроде как спокойней становится, и от тамошних хулиганов бежится веселее. Ибо сейчас вот трамвай проехал, а через минуту, глядишь, и милиция мимо прокатится. И ты уже не на войне всех против всех, а в спасительной тени родного Левиафана.
Ответив сыну, я продолжил думать и подумал, что общность людей в СССР обеспечивалась не только пропагандой, которую уже в 70-е недолюбливали, как не любят всякую мертвечину, но и вот этими железными нитками — девятнадцатью трамвайными и двенадцатью троллейбусными маршрутами в Твери.
А я ведь все детство и отрочество в духе коллективизма воспитывался, я, может, и сейчас хочу общности с народом, я в принципе-то не против пресловутых скреп. Но вместо вот этих осязаемых вещей — рельсов и проводов, мне для чувства общности предлагают тухлую современную пропаганду. В тверском телевизоре каждая новость начинается с губернатора, от вдохновенного вранья которого («трамвай разовьем, Речной восстановим, маршрутки уберем», а по факту трамвай закрыли, маршрутки развивают, Речной третий год в руинах, а еще с особым цинизмом уничтожили изящный Путевой дворец, построив рядом какую-то нелепую гигантскую коробку с куполами) меня уже, признаться, тошнит. В Кашине люди в группе «Подслушано» неделю обсуждают исчезновение воды в единственной реке и сошедший по весне асфальт, а городские власти в официальной группе бодро рапортуют, что провели мероприятие «Военное детство». В федеральном телевизоре картинка вроде покрасивше, я включаю программу «Время» в готовности слиться с народом, но меня, увы научили думать и работать с информацией. И через минуту начинаю задавать авторам сюжетов вопросы, а через две вспоминаю своего друга-лыжника. Когда его, семнадцатилетнего фанатика спорта, в первый раз напоили вином на сборах в Бакуриани, его стошнило по пути в душ. Он упал, и, лёжа на полу, пытался поднять с пола своё полотенце.
«Понимаешь, — говорил мне друг, — я его с пола собираю-собираю, а оно почему-то у меня между пальцами течёт».
Вот чтоб не чувствовать того, что чувствовал в тот момент мой друг-лыжник, я хочу, чтобы в нашем городе и стране не было бы нынешних властей и был трамвай.