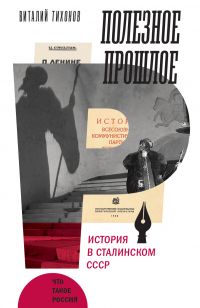Больше рецензий
23 декабря 2023 г. 15:16
155
5 Книга о борьбе авторитарного (или тоталитарного) режима с историей, в которой усматриваются хорошие параллели с сегодняшним днем.
РецензияЯ заметил, что последние года два некоторые издательства выпускают книги, вполне точно и достоверно рассказывающие об определенных исторических процессах и явлениях, имевших место когда-то давно в прошедшие времена, но эти процессы и явления весьма сходны с происходящими сейчас в нынешней России, при этом в самой книге никаких параллелей не проводится, но аллюзия самим фактом издания книги на такую тему хорошо просматривается.
Книга В. Тихонова «Полезное прошлое: История в сталинском СССР» (Издательство «Новое литературное обозрение». 2024) представляет собой именно такой случай. Хотя все-таки автор сделал некий намек, посвятив книгу своим дочерям «с надеждой, что прошлое никогда не отнимет у них будущего».
В книге рассказывается как сталинское государство и Сталин лично использовали историю как науку и историческую культуру для пропаганды в целях укрепления и удержания своей власти. Автор В. Тихонов пишет, что историзация стала одним из основных идеологических методов сталинской пропаганды, а историческая аллегория – ее основным приемом. При помощи исторических образов зрителю или читателю объяснялась текущая политическая ситуация. Так создавалось «полезное прошлое», рассматривавшееся в качестве неисчерпаемого ресурса для идеологии и поддержания сталинского режима.
Изложенный в книге материал я разделил бы на две части. В первой части рассказывается о роли самого Сталина в идеологическом воздействии на историческую науку и историческую культуру, о том, как Сталин читал исторические труды и делал в них пометки, о том, как он правил и утверждал сценарии к художественным фильмам, о том, как он создавал культ исторических героев, о том, как он проверял и редактировал школьные учебники истории, а в отношении «Краткого курса истории ВКП (б)» он вообще считается одним из авторов, причем главным.
Вторая часть представляет собой описание советской исторической науки и ее шараханье между идеологическими установками, спускаемыми ей властью и нередко лично Сталиным, причем часто эти идеологические установки по прошествии некоторого времени менялись на диаметрально противоположные, что объяснялось какими-то соображениями Сталина по текущей политической ситуации.
Так, до конца 1930-х – начала 1940 – х в исторической науке, да и вообще в советской исторической культуре, господствовал революционно-классовый подход, когда не только абсолютно все цари, великие князья и императоры характеризовались исключительно отрицательно как представители эксплуататорских классов (все это в равной степени относилось и к таким личностям как Суворов, Кутузов, Александр Невский и т.д.), но такая же оценка давалась и Богдану Хмельницкому (он представлялся как предатель народных интересов восставших), и Минину с Пожарским (они вообще стремились подавить крестьянское движение и рассматривались как контрреволюционеры). Положительно представлялись главным образом только вожди и лидеры разного рода восстаний и народных движений против власти (Пугачев, Болотников, Разин). Русский народ достаточно часто отождествлялся с царской и императорской властью и, соответственно, все национальные восстания характеризовались как прогрессивные, практически революционные, направленные против национального гнета со стороны русского самодержавия, им приписывались черты, которых у них не было, а значение преувеличивалось. Например, имам Шамиль рассматривался как исключительно прогрессивная личность, боровшаяся с русским царизмом и как лидер национально-освободительного движения. Понятно, что в таком положении и с таким нигилистическим подходом с начала советского режима история как предмет из школьной программы была исключена и не преподавалась. Просто непонятно, что вообще можно было преподавать. Считалась, что история воспитывает шовинизм и национализм. Вернули историю в школьную программу и в университеты, где соответствующие факультеты тоже были упразднены, только в 1934 году.
Затем постепенно по личной инициативе Сталина подход начинает меняться на национал-большевистский, когда стал активно внедряться советский патриотизм. Все это повлекло коренную ломку прежних исторических конструкций. Появились хорошие цари (опять же по личной инициативе Сталина ими были провозглашены Петр I и Иван Грозный). Стал активно пропагандироваться концепт особой миссии русского народа как старшего брата других национальностей.
Помимо этого «коренного» пересмотра идеологических установок в исторической науке были изменения и поменьше. Например, учение о языке академика Н.Я. Марра было господствующим и активно навязываемым вплоть до 1950 года, когда была опубликована статья Сталина «Относительно марксизма в языкознании», где отвергались основные постулаты учения о языке академика Н.Я. Марра. Этот момент перевернул всю лингвистическую науку, а марристы были повергнуты в шок.
Автор подробно рассматривает, как историки приспосабливались к изменениям идеологических установок в исторической науке. Он рассказывает как писались новые учебники по истории в середине 1930-х годов, как и за какие работы вручались сталинские премии по истории, как проводились идеологические компании и идеологические дискуссии среди историков во время позднего сталинизма, описывает юбелееманию.
Вообще, в книге приводится очень много интересных сведений о событиях, которые уже давно забыты и информацию о которых получить достаточно трудно, если не сидеть в архивах. И если еще случаи, когда Сталин лично правил сценарий Эйзенштейна к фильму «Александр Невский» и выдвинул новую концепцию опричнины при Иване Грозном как явления исключительно прогрессивного и направленного на борьбу с феодальной раздробленностью и средневековыми пережитками опять же в связи с «патронированием» фильма Эйзенштейна «Иван Грозный», достаточно известны из исторической публицистики, то об утверждении и правке Сталиным сценариев к фильмам «Суворов», «Минин и Пожарский», «Богдан Хмельницкий» или уж к совсем забытому фильму «Великий Моурави» (о грузинском полководце 17 века с очень амбивалентной репутацией Георгии Саакадзе) мне как-то прежде ничего не попадалось.
Из книжки можно также узнать о том, что в исторической науке сталинского времени под воздействием идеологических установок существовали очень своеобразные теории, которые сейчас иначе как завиральными и назвать нельзя. Например, была достаточно широко распространена теория о том, что в Древней Руси был рабовладельческий общественно-экономический строй (формация), то есть она была рабовладельческим государством. Появление этой теории объяснялось, вероятно, стремлением втиснуть многообразие реальной исторической действительности в принятое в советской идеологии учение об общественно-экономических формациях (пять стадий), ведущее свое происхождение от достаточно разрозненных сочинений К. Маркса. Одной из пяти утвержденных формаций был рабовладельческий строй. Идеологические потребности вызывали необходимость его обнаружения на территории существовавшего тогда СССР, чтобы первое советское социалистическое государство полностью соответствовало утвержденной пятистадийной схеме, а то оно получалось каким-то недоделанным в марксистском смысле.
Примерно по этим же причинам не только в исторической науке, но и Сталиным лично уделялось большое внимание истории древнего государства Урарту, существовавшего в Закавказье в 9 – 6 веках до н.э. Оно было объявлено первым государственным образованием на территории Советского Союза и в «Кратком курсе истории СССР» 1937 года ему было уделено достаточно много места. Получалось, что Урарту включено в историю социалистической страны, а СССР ведет свое начало от античности, что вообще являлось проявлением широко распространенного тогда во многих государствах Европы стремления удревнить свое государство. Собственно эти тенденции не исчезли и сейчас.
Урарту существенно удлинило историю СССР почти на две тысячи лет и поскольку его общественно-экономическую формацию считали рабовладельческой, получалось, что СССР когда-то прошел этот обязательный этап.
Интересно еще и то, что сейчас Урарту, по мнению большинства специалистов, ближе стоит к Армении, а жившие в нем народы являются предками армян, но в сталинское время среди историков было распространено мнение, что жители Урарту были предками грузин. При этом, судя по пометкам в книгах из библиотеки Сталина, он этот взгляд вполне разделял, вероятно, по причине того, что сам был грузином, хотя, исходя из тех же пометок, соглашался разделить историю Урарту с армянами.
Советская историческая наука была заложником идеологии и личное, практически ручное, руководство Сталиным исторической культурой и исторической наукой иногда порождало совсем комичные ситуации, приведенные в книге. В 1933 году на съезде колхозников-ударников Сталин заявил, что революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся. Здесь, конечно, абсолютно все «выносит мозг». Но наука наукой, а лично у меня главный вопрос в том, зачем (чем он руководствовался) Сталина понесло рассуждать о рабовладельческой формации перед колхозниками-ударниками, многие из которых не то, что не читали книг, а и читать-то не умели (какая там рабовладельческая форма эксплуатации, они рабовладельцев от рыбовладельцев не отличат)? Однако, сказано – сделано. Советские историки сразу бросились искать эту революцию рабов (видимо, она должна была называться феодальной революцией). Вроде бы даже нашли некое восстание в Боспорском царстве в 108-107 веках до н.э. Восстание Спартака пытались так же подстроить к этому тренду.
Ситуации, когда Сталин где-нибудь что-нибудь брякнул на историческую тему, а историки моментально кидались искать подтверждение, возникали периодически. В книге приводится несколько таких случаев. Так, в ходе языковедческой дискуссии 1950 года Сталин в одной из своих статей в газете «Правда» заявил о курско-орловском и полтавско-киевском диалектах, которые легли в основу русского языка и украинского языка. Языковеды и археологи бросились на поиски курско-орловского диалекта древнерусской народности.
Автор проводит в книге мысль, что Сталин подходил к исторической науке и исторической культуре как к инструментам советской идеологии для воздействия на народные массы. Причем подход его был чисто практическим и обусловленным политическими задачами текущего времени. Например, Сталин в какой-то момент понял, что патриотические лозунги, основанные на культе прошлого, были эффективнее, чем коммунистический интернационализм. Правильным провозглашалось то, что полезно здесь и сейчас. Когда через некоторое время задачи и обстоятельства менялись, правильным объявлялось другое, нередко то, что перед этим было неправильным.
Именно такой подход, как мне кажется, пытается воспроизвести нынешняя власть в своей нелегкой борьбе с историей. Один из главных инициаторов этой борьбы неоднократно заявлял, что правильным или истинным является то, что в данный момент соответствует интересам власти (он отождествляет существующую власть с Россией), а неправильным, наоборот, что противоречит этим интересам.
Однако надо сказать, что нынешняя попытка создания «полезного прошлого», хотя и ориентируется на сталинизм, но явно и очевидно ни в какое сравнение с ним не идет. Выглядит все «жиденько». Да и настоящие историки, занимающиеся наукой, в этом процессе в общем не участвуют и его сторонятся. Мелькнуло только несколько генералов от исторической науки, вероятно, для придания авторитета официозным учебникам. Сталин, конечно, не получил системного образования, но даже без него во многих вещах мыслил вполне рационально, в отличие от инвектив нынешних исторических «мыслителей». Во всяком случае, существование украинского языка он не только не отрицал, но и признавал, даже рассуждал о процессе его образования.
В любом случае, несмотря на несравнимую мощь и ресурсы, и сталинская, и вообще вся советская машина идеологии и пропаганды в итоге пришла к полному банкротству
Отмечу, что автор книги В. Тихонов завершает ее заключением, что сталинский режим заложил под Советским Союзом «бомбу памяти». Исторические мифы с одной стороны и замалчивание многих невыгодных ему исторических фактов и событий с другой, а также в последующем замалчивание преступлений сталинского режима, стали одним из факторов кризиса советской идентичности и способствовали распаду советской системы. В подтверждение он приводит выдержки из не связанных между собой интервью двух участников Беловежских соглашений С. Шушкевича и Л. Кравчука, где они оба говорят о «мемориальном» разочаровании в советском проекте.