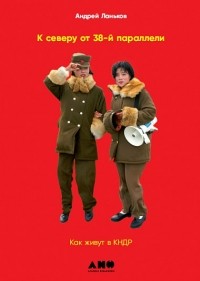Больше рецензий
28 сентября 2023 г. 14:52
239
4 Обзор тоталитарного государства без прошлого и будущего
РецензияКнига Андрея Ланькова, впервые попавшего в КНДР в возрасте 20 лет для учебы в университете Ким Ир Сена по программе студенческого обмена с СССР, по невероятной иронии, это случилось в тот самый Оруэлловский 1984 год...
Его первые впечатления об увиденной там жизни:
Однако в те солнечные сентябрьские дни 1984 года я не увидел признаков террора и репрессий. Северная Корея совсем не походила на оживший кошмар из книг Оруэлла. Красивые женщины, одетые скромно, но мило и со вкусом, очаровательно улыбались. Важные чиновники и мелкие бюрократы в неизменных френчах спешили в свои департаменты. Старушки гуляли по улицам с внуками и внучками. Студенты и школьники шли на занятия. Короче говоря, все выглядело совершенно нормально за некоторым исключением в виде, например, почти истеричных лозунгов, которые неслись из динамиков, что были почти на каждом столбе, да вездесущих солдат с автоматами Калашникова (впрочем, и эти солдаты не выглядели особо угрожающе). Казалось, что вокруг меня идет совершенно нормальная жизнь, и именно эта нормальность происходящего вокруг никак не соответствовала моим ожиданиям. Жизнь Северной Кореи и была нормальной. По молодости своей я не понимал тогда одну простую истину: даже в самых репрессивных режимах подавляющее большинство людей все равно стараются жить нормальной жизнью - и в целом это у них обычно получается. В этой нормальной жизни есть работа и отдых, любовь и дружба, и в ней остается не так много места для политики.
При прочтении книги моментами может сложиться иллюзия того, что в Северной Корее можно жить, если приспособится к промывке мозгов и лагерным законам ограничивающим всё, от выбора образа мыслей до свободы передвижения по собственной родине, но очередной эпизод из повседневной жизни северокорейца возвращает на землю...
Кто стучится в дверь ко мне?
Неожиданный звонок — или решительный стук — в дверь после полуночи не без оснований считается символом полицейского государства. Действительно, многие северокорейцы просыпаются посреди ночи от такого стука и это означает, что у них в доме вот-вот появится полиция. Правда, в подавляющем большинстве случаев обитателям дома не надо готовиться к аресту. Случиться, конечно, может всякое, но гораздо более вероятно, что это просто «проверка ночующих», или сукпак комёль. Подобные проверки в Северной Корее часть рутинной полицейской работы. До недавнего времени все северокорейские домохозяйства подвергались им несколько раз в год.
<...>
Лучшее время для сукпак комёль — вскоре после полуночи. Если объектом проверки является инминбан, расположенный в квартале индивидуальной жилой застройки, то несколько полицейских оцепляют квартал по периметру, чтобы никто подозрительный не смог скрыться во время рейда. Если инминбан, подвергающийся проверке, располагается в многоэтажном городском доме, то несколько полицейских занимают позиции у входа в подъезд или подъезды. После того как вероятные пути отступления нарушителей перекрыты и посты скрытно расставлены, основная группа начинает рейд, проверяя дом за домом, квартиру за квартирой. В первую очередь группа осматривает те места, где теоретически может спрятаться человек, включая шкафы, сундуки, балконы и т. д. Официально они ищут шпионов и беглых преступников, но их реальную добычу составляют родственники и друзья хозяев дома, равно как и невезучие любовники. Кроме того, проверяющие должны удостовериться, что все лица, зарегистрированные по данному адресу, находятся на месте или отсутствуют по уважительной причине.
Репрессивную машину КНДР Ланьков описывает без эмоций, сухим академическим языком, создавая ощущения нормальности происходящего.. Такое впечатление складывается во многом благодаря тому что в книге никак не описываются, то что происходит с теми кто не восхваляет тоталитарную религию семьи Ким или прямо ей противодействует, нет ни слова про лагеря, казни и чистки неугодных и инакомыслящих, нет там и темы про ядерное оружие и демонстративные жесты режима Ким Чен Ына, такие как например заказное убийство своего старшего брата в Куале-Лумпуре. Единственно, более менее раскрыта тема похищений корейских диссидентов просивших убежище, которых паковали за границей и насильно возвращали на родину, где они неминуемо исчезали.. но как исчезали, куда исчезали, как происходит утилизация неугодных режиму и как устроена система пыток, ничего этого в книге нет от слова совсем..
Зато очень хорошо описана как устроена пропаганда в тоталитарном государстве, дающая фору даже роману 1984 - Оруэлла, устремленная довести население до исступления - безумного состояния идолопоклонничества со спасением ликов вождя даже ценой гибели собственных детей...
Северокорейские газеты постоянно пишут о героических поступках корейцев, спасающих портреты Вождя и Полководца ценой собственной жизни. В 2008 году, например, СМИ много писали о подвиге рабочего Кан Хён-гвона. Во время летних наводнений дом Кан Хён-гвона оказался затоплен. Герой, как и полагается, первым делом завернул в полиэтилен портреты, посадил себе на спину пятилетнюю дочь и попытался добраться до безопасного места. Однако дочь не удержалась на спине отца и упала в воду. Если верить тому, что написали «Нодон синмун» и ЦТАК, Кан Хён-гвон в этот момент еще крепче сжал в руках священные портреты. Из официального сообщения непонятно, утонула ли девочка, но неясность там, похоже, сохранена вполне умышленно, чтобы читатели понимали: важно не то, осталась ли в живых дочь, а то, что даже в такой момент герой не выпустил портретов из рук.
Особенным открытием для меня стали так называемые обязательные собрания "самокритики".
На заводе, в учебном заведении или воинской части обычно действуют несколько «организаций», но «собрания самокритики» все организации проводят одновременно, хотя и в разных помещениях. Иначе говоря, с наступлением субботы члены партии, профсоюза и Союза молодежи в установленное время отправляются в три разных помещения и там начинают активно критиковать себя и друг друга.
Все участники таких собраний должны готовиться к ним заранее. Все свои грехи и проступки человек должен записывать в специальную тетрадь. Предполагается, что на «собрании самокритики» каждый участник мероприятия сообщит своим товарищам обо всех нарушениях, совершенных за отчетный период, то есть обычно в течение предыдущей недели.
<.....>
Однако простого признания ошибок недостаточно, необходимо также предложить меры по исправлению допущенных нарушений. При этом публичное покаяние, которое обычно длится пару минут, должно включать в себя цитату из трудов одного из Кимов (для того чтобы облегчить подготовку к подобным выступлениям, существуют специальные тематические цитатники вождей). После публичного покаяния наступает время «взаимной критики». Это означает, что каждый участник должен осудить действия своих коллег точнее, одного из них. Избежать участия в этих ритуалах не может никто.
Тщательно описан и железный занавес, который не снился даже Сталинским временам, в частности то как система контролирует перемещение информации, которая может достичь уши и глаза обычного северокорейского самаритянина.
Радио:
В большинстве социалистических стран главным источником нецензурированной информации было радио, то есть пресловутые «вражьи голоса». Передачи «Голоса Америки», Би-би-си и Радио «Свобода» слушали по всему СССР и по всей Восточной Европе, и мало кто сомневается в том, что «голоса» сыграли свою немалую роль в падении социалистической системы. Неудивительно, что власти Северной Кореи уделяют контролю над радио особое внимание. В СССР пытались глушить иностранное радиовещание, нацеленное на советскую аудиторию, и тратили на это немалые деньги. Северная Корея нашла решение, которое было и дешевле, и надежнее, чем глушение нежелательных программ. С конца 1960-х в КНДР в принципе запретили продажу и использование радиоприемников со свободной настройкой, и даже само владение таким приемником стало рассматриваться как правонарушение. С тех пор все радиоприемники, которые продаются в северокорейских магазинах, имеют фиксированную настройку на те диапазоны, на которых ведут свое вещание официальные радиостанции. Приемники со свободной настройкой устанавливаются только там, где регулярно появляются иностранцы. В 1980-е годы советские семьи - по крайней мере, семьи городской интеллигенции - часто собирались на кухнях вокруг транзисторных приемников, настроенных на волну какого-нибудь из западных «голосов». Когда в те же самые годы северокорейская семья собиралась вокруг большого лампового радиоприемника «Тэдонган», они могли слушать только официально утвержденные и идеологически выдержанные программы пхеньянского радио.
ТВ:
Государство делает все, чтобы отрезать северокорейских телезрителей от зарубежных передач. Это особенно важно в северных приграничных районах, где легко принимаются китайские программы (в том числе на корейском языке). Раньше в борьбе с незаконным вещанием полиция подвергала все частные телевизоры в приграничных районах незначительному «хирургическому вмешательству». Самый распространенный способ нейтрализации потенциальной опасности заключался в том, что телевизору устраивали фиксированное подключение к одному каналу. Как мы увидим ниже, на селе эта система действует до сих пор - там транслируется только один официальный канал, поэтому работает только одна кнопка. В старых телевизорах с поворотным переключателем каналов этот переключатель был зафиксирован на официально санкционированном канале Пхеньянского центрального телевидения. Затем переключатель каналов оклеивался бумагой, заверенной печатью местного отделения полиции. Телевизоры и печати подвергались выборочным проверкам, чтобы убедиться, что никто не осмеливается смотреть китайские передачи.
Особенно важно в контроле за информацией не забывать и том что ты сам когда-то распространял и говорил, поэтому любой тоталитарный режим в обязательном порядке переписывает историю для собственной стабилизации в дне сегодняшнем.
В Северной Корее помнили и о том, что нежелательная информация могла поступать не только извне, но и, так сказать, из прошлого. Официально признанная картина Истории страны постоянно менялась и пересматривалась обычно таким образом, чтобы подчеркнуть исключительное значение и потрясающую мудрость Семьи Ким. В этой обстановке даже официальные письменные издания, вышедшие 15 или 20 лет назад, могли стать источником смуты в умах простонародья. Северокорейское руководство понимало, что рядовому человеку вредно читать старые статьи в «Но- дон синмун», в которых тот или иной политический деятель, все упоминания о котором исчезли из официальной печати некоторое время назад, величался одним из высших руководителей страны и даже заслуживал неоднократных благодарственных высказываний от самого Ким Ир Сена.
В результате с 1960-х годов в КНДР стала действовать система, в соответствии с которой все старые периодические издания, включая и самую главную газету «Нодон синмун», по истечении определенного срока стали отправляться в спецхран. Благодаря этим усилиям северокорейскому руководству удалось создать уникальную информационную среду.
В Пхеньяне было объявлено об открытии «тэдонганской культуры», названной в честь реки, на которой располагается столица КНДР. По утверждениям пхеньянских историографов, долина Тэдонгана является одним из пяти центров мировой цивилизации другими - таким центрами, более-менее равными древнему Пхеньяну по своему значению, являются Древний Египет, Месопотамия, Древняя Индия и Древний Китай. Как утверждают в Пхеньяне, тэдонганская культура по уровню своего развития не уступает Египту времен строительства пирамид. Правда, реальных впечатляющих свидетельств существования этой культуры они пока никому не продемонстрировали, но, учитывая накопленный северокорейскими строителями опыт воздвижения «древних памятников», это, как представляется, лишь вопрос времени.
В любом случае вот уже четверть века все северокорейские школьники учат и в своем большинстве искренне верят в то, что их страна обладает самой древней в мире историей и является колыбелью мировой цивилизации. Что ж, это, наверное, многих воодушевляет...
И чтобы завершить круг безумия по стерилизации общества от нежелательной информации, мыслей и идей не забыли и про книги, которые прямой наводкой отправлялись в костёр.
В былые времена в ходе сукпак комёль проверяли находящиеся в доме книги. После принятия в 1967 году «указаний 25 мая» было предписано провести «работу по упорядочиванию печатных изданий» (тосо чонни саоп). Требовалось в течение нескольких месяцев выявить и уничтожить всю хранящуюся в библиотеках и частных домах «идеологически сомнительную литературу». Таковой литературой тогда полагалось считать практически все иностранные, в том числе и советские, издания нетехнического характера. Результатом выполнения этого приказа стали памятные многим северокорейцам старшего поколения костры из идеологически вредных книг, значительную часть которых, кстати, составляли книги советские. После 1967 года в течение примерно десятилетия домашние библиотеки тщательно проверяли.
Стоит отдельно упомянуть, что в книге значительно уделено внимание описанию, как КНДР при правлении Ким Чен Ына хоть и полулегально, но перешла на рыночные рельсы. Законы капитализма с необходимостью добывать «твердую валюту» и рыночные отношения ломают даже самый жуткие и химически чистые тоталитарные режимы планеты. Конечно такое государство не может официально признать такую неприятную для концепции социализма реальность, поэтому бизнес и недвижимость лишь формально регистрируют на государство, по факту же им владеют и распоряжаются частные лица. Капитализм также сломал и обязательную рабочую повинность, которая мешает мужикам заниматься бизнесом, а не батрачить на заводе во имя вождя. При наличии денег, эта система обходится так называемым платежом «3 августа», некая дань за возможность не приходить на официальную работу, а просто числиться в штате.
И напоследок немного показавшихся мне особенно интересных фактов о КНДР:
1. Служба в северокорейской армии занимает в среднем 10 лет и является во многом привилегией, а не наказанием, как у некоторых.
Людей с низким сонбуном (потомков и близких родственников политзаключенных, например) вообще не призывают на военную службу. То же самое можно сказать и о семьях репатриантов из Японии, вернувшихся в Корею в 1960-х годах. За редким исключением, они считаются неблагонадежными, и оружия им не доверяют. Таким образом, получается, что в армии не служат выходцы из самых привилегированных и, наоборот, самых дискриминируемых социальных слоев.
2. Чтобы иметь право водить велосипед надо сдавать на права :)))
Велосипеды в КНДР должны иметь регистрационный номер, а велосипедисты - сдавать экзамен на права в местном отделении полиции. Для того чтобы получить права, северокорейцы должны продемонстрировать знания правил дорожного движения.
3. Велосипед это дорого и престижно, а об авто даже и не мечтают.
В обычной семье велосипед, пожалуй, самый дорогой из всех предметов домашнего обихода. Это не только транспортное средство, но и символ статуса. Кстати сказать, наиболее бедным семьям велосипед, даже самый простой, по-прежнему не по карману. Расхожая на Севере шутка «я могу одолжить жену, но не велосипед» хорошо иллюстрирует отношение корейцев к своим двухколесным экипажам.
Велосипеды в Северной Корее воруют довольно часто: после кризиса 1990-х в стране появилась уличная преступность, и велосипед - самая дорогая вещь, которой может владеть обычный северокореец, естественно, привлекает - особое внимание воров. А как же машины? Личные автомобили до сих пор остаются редким исключением. Автомобиль также доступен для среднего северокорейца, как, скажем, частный самолет для среднего американца. Собственное авто есть лишь у немногих избранных.
Ps/ в качестве бонуса, прочтение можно дополнить лекцией автора посвященный выходу этой книги и более свежим интервью у Варламова.