Больше рецензий
10 января 2023 г. 20:05
146
4.5
РецензияЭта книга полностью оправдывает свое нахождение в серии «Страдающее Средневековье». Она про Средневековье, и люди, о которых в ней идет речь, действительно страдают (изредка даже судьи и прочие чиновники). Маленькое уточнение: книга построена преимущественно на анализе конкретного документа с привлечением ряда дополнительных источников (а их очень много, список литературы и примечания, отсылающие к отдельным документам, составляют около трети от всей книги). И документ этот – уголовный регистр королевской тюрьмы Шатле, составленный секретарем суда Аломом Кашмаре в 1389–1392 гг. Повествование сосредоточено в основном на особенностях права, судебного процесса и всех его составляющих, имевших место во Франции конца 14 века, однако автор также делает экскурсы в прошлое и будущее некоторых процессов, а также сопоставляет их с тем, как устроено право или отдельные его элементы в других странах в те же периоды времени.
Как и положено в хорошем научном труде, книгу свою Ольга Тогоева начинает с обоснования темы, метода, выбранного для исследования материала. Не скажу, что в этом обосновании лично мне все было понятно, все-таки обсуждение методологии конкретной науки – слишком специфическая штука. Скажем, я недостаточно хорошо разбираюсь в философии Фуко (его методу анализа, если я верно поняла, автор противопоставляет выбранный для исследования ею), чтобы соглашаться или не соглашаться с аргументами, приведенными в книге. Тем не менее, это вступительная часть, которая, как мне кажется, в большей степени нужна ученому, специалисту, чем рядовому читателю вроде меня. После вступления начинается интересное, а именно разбор средневекового правосудия по косточкам, по мельчайшим деталям на основании ряда случаев, некоторые из которых более-менее типичны, но большая часть выделяются какими-то отдельными аспектами.
Средневековый мир, описанный Ольгой Тогоевой, кажется ужасным местом для выживания. Любой может написать на тебя донос, и одного доноса достаточно, чтобы назвать тебя ведьмой или колдуном, а шансов выиграть такой процесс для обвиняемого исчезающе мало (хотя в книге и приводится пример одного такого случая). Слухи, сплетни, чья-то зависть, ненависть, предубежденность – все это может стать причиной твоего падения. Более того, слухи в суде использовались как доказательства вины. Такие фразы, как: «все в округе знают, все об этом слышали, это общеизвестно» служат самоочевидными доказательствами справедливости обвинения. Особенно ярко это предстает в описании дела Жиля де Ре, обвиняемого, в числе прочего, в исчезновении и убийстве огромного числа мальчиков. Никаких доказательств того, что за исчезновениями мальчиков ответственен Жиль де Ре, не было. Более того, не было даже доказательств того, что эти мальчики были убиты, не говоря уже о том, что именно Жиль де Ре, организовал их убийства или убил их сам. И это если не упоминать того, что число убитых мальчиков, было явно преувеличено (около 200). Ольга не играет в детектива и не пытается объяснить, что могло спровоцировать этот судебный процесс. Ее внимание сосредоточено на том, какие приемы судьи используют при вынесении вердикта для описания виновности обвиняемого, как шел процесс, какие были приведены доказательства, как история Жиля де Ре связана со сказкой о Синей Бороде. Отдельно стоит рассказать о методе анализа, который применен здесь, а также при описании некоторых других случаев – анализ с использованием сказочного или мифологического сюжета (не уверена, что верно описала или назвала метод). Автор обращает наше внимание на тот факт, что структуры некоторых процессов и нарративы случаев схожи со структурами тех или иных сказок, мифов, библейских сюжетов. Например, сюжет, похожий на сказку Шарля Перро о Синей бороде, существовал ещё до рождения Жиля де Ре, и, возможно, в какой-то степени был основан на реально существующих людях, и происходящих с ними событиях (точнее, представлениях, которые о них были у людей). Таким образом, уже к момента предъявления обвинений и суда над Жилем де Ре, мог существовать нарратив, который влиял на взгляды его современников, в том числе и судей.
Светские судьи на конец 14 века находились в не самом простом положении: им надо было судить, но права, как такового, ещё толком не было. Не было никакой системы сбора доказательств, основы профессии только-только создавались, и в таких условиях судьи могли пользоваться уже существующими нарративами, чтобы оформить дело в соответствии с их структурой. Сколько в этом было правосудия? Справедливости? Наверное, какой-то процент обвиняемых действительно совершал то, за что их судили, возможно, даже таких людей было большинство. Но многие признавались под пытками (потрясающее выражение «легкая пытка»). Другие не признавались (таких было не очень много), и тогда у них было чуть больше шансов выжить. Наказания были совершенно несоразмерны преступлениям. При этом люди, имеющие отношение к религиозным институтам, получали своеобразный иммунитет, и светсткий суд должен был передавать их религиозному суду. Соответственно помимо ужасающей жестокости наказаний существовало ещё и неравенство. Я склонна эмоционально вовлекаться в происходящее в книгах, и при прочтении этой много злилась. Неравенства всякого завались, Жанну Д'арк сожгли, женщин чуть что обвиняют в проституции, пытки используют направо и налево. Ужасно. Но мне понравилось, так что если вас интересует, что там было в средневековой Франции с правосудием, крайне рекомендую. Интересный взгляд на мышление средневекового человека, знакомство с судьбами десятка человек, описание крайне странной и неприятной казни, придуманной специально для евреев, отказавшихся переходить в христианство. Шик.

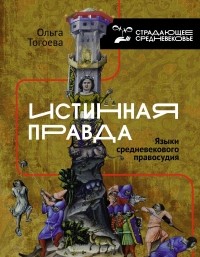
Комментарии
Да, после такого не нужно дополнительных аргументов. что Стивен Пинкер прав, когда говорит, что насилия в мире стало меньше. Невзирая.
Интересная рецензия, спасибо.
Однозначно! В сравнении можно увидеть, что мир все же становится гуманнее.