Больше рецензий
20 марта 2019 г. 22:22
8K
0 Хождение по мукам
РецензияРоссия – благодатная почва для страданий в какой-бы то ни было период времени. Страдающее средневековье русской души, вечная нищета, провинциальные города, одинаковые что при одной власти, что при другой и герои, заливающие свой внутренний мир тревог и чаяний чем покрепче – картина для русской прозы довольно типичная, и сразу на ум приходит литературная байка про то, что великий американский писатель Хайнлайн когда-то сказал, что русская литература точно была придумана не для удовольствия, а для «пострадать».
«Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» - первый большой роман Ольги Славниковой, сразу, как известно, попавший сначала в премиальные списки «Большого Букера», а потом и вовсе взявший главный приз. Решение немало удивило многих – во-первых, кто такая Славникова, не знал толком никто, а во-вторых, тяжёлая во всех смыслах книга попросту пугала и придавливала неподъёмным грузом тоски с первых страниц. Жили-были мать и дочь в некотором городе где-то на Урале, мужики в этой семье обычно или пропадали, или умирали, а женщины испокон веков не знали, что такое счастье – это если коротко. Стиль Славниковой изменится с годами, но очевидно – она уже тогда едва ли не изобретает свой собственный стиль письма (который, впрочем, явно тяготеет к прозе Набокова или даже Марселя Пруста); текст раскрывается, как разматывается какой-то бесконечный клубок ниток, потоком чужой рефлексии, избыточным описанием слишком узнаваемого советского быта, нутро любой типичной квартиры, препарируемое с хирургической отстранённостью и разглядываемое через увеличительное стекло. Никакой прямой речи, никаких диалогов, практически бесшовный текст, непроглядная суровая хтонь, счастья нет, но вы держитесь. Бок о бок, ежедневно, в стенах древней однушки не менее древнего дома, с видом через невымытые стекла на дворик под окном, где не видно горизонта, то есть – никакого будущего.
В этом мире нет жизни вообще – собственно, Славникова намекает на это, открывая роман смертью матери. Софья Андреевна, учительница литературы в местной школе, мысленно живущая в девятнадцатом веке, изредка выбирающаяся в начало двадцатого, «где смертельно боялась пьяного Есенина с его кабаками» - что уж говорить про более поздний период. Жизнь осталась где-то в пыльных романах и скромном воображении, удивительно, что эта женщина в состоянии была дать жизнь кому-то еще; ирония в том, что здесь дана скорее нежизнь, без попыток что-то изменить, просто потому, что в этой семье так повелось испокон веков.
Удивительно, но в этом «женском» романе и женщины недостаточно женщины – у героинь то «мужские носы», то они вовсе не могут воспринимать и принимать себя, не допуская мысли о естественных физиологических процессах, порой происходящих с ними, не давая возможности любить других и себя, не делясь ничем, только накапливая. Начиная с детства, каждая из героинь что-нибудь, да копит – одна прячет по тайникам, другая начинает со скуки и в протест ко всему на свете воровать; копятся обиды, невысказанные претензии и неоправданные надежды, вырастают, как мусорные кучи, стрекоза раздаётся до собачьих размеров. Славникова не даёт никакой надежды – сидящая на похоронах матери дочь, возможно, «только и начнёт жить», но чем дальше, тем очевиднее – нет, не начнёт. В затхлом мире, словно отражении обычного, не живёт никто. Эта тема отражений – одна из ключевых в романе о созависимости двух словно приклеенных друг ко другу людей. Можно было бы предположить, что основной конфликт здесь в том, что эти две женщины совершенно друг на друга не похожи, но беда в том, что одна – зеркальное отражение другой, и с повествованием Славникова только подчёркивает это: дочь словно забирает у матери её лицо, становясь всё более ей, постоянно это, разумеется, отрицая. Желания при этом разъехаться ни у кого не возникает – таких вариантов как будто нет вовсе, потому что жизнь возможно только такая – в нелюбви, но как у сиамских близнецов, где, как известно, разрыв чреват чьей-нибудь смертью. Поколения отражаются друг в друге – София Андреевна учит литературе, её мать учила рисованию, бабка учила рукоделию, женщины похожи друг на друга всем – и внешне, и внутренне, и судьбой, и одиночеством, которое копилось много-много-много лет, передаваемое, как наследство и так же оберегаемое.
Года спустя кругом всё то же самое - со стен сыплется краска, тапки шаркают по паркету, из форточки сквозит, из крана капает, в коридоре постоянно мокро и натоптано, а за окном по сюжету чаще зима и грязь, реже – невыносимая жара, некомфортные условия жизни. У одной из-за другой не срастается ни с чем – толком ни с работой, ни с друзьями, ни с личной жизнью – понятно, что понятие «личная жизнь» здесь вовсе вычитаемо, в отрицательной степени, притом вовсе не потому, что мать лезет в жизнь дочери или наоборот. В чужие жизни здесь не лезет никто, и это, возможно, выглядит удивительным, но созависимость работает здесь не так, но тоже – по довольно классической схеме. По Славниковой есть человек в маске жертвы, копящий претензии по сути не к оппоненту (то есть дочери), а к своей жизни вообще – начиная с раннего детства, да и вообще, возможно даже не своего, а какой-нибудь самой древней бабки-прародительницы, которая наверняка виновата в том, что всё так веками и катится – под откос, мужчины умирают или сбегают, только их и видели – строить какую-то другую жизнь, например («она привыкла ждать Ивана, гулявшего словно в другом измерении, куда она не знала способа попасть»). Женщины же не могут сбежать, не умеют даже задуматься о побеге – и даже после смерти остаются жить в своей квартире, шаркая тапком и глядя мутным глазом в пыльно-ковровую стену.
Правильных ответов «а как надо было» здесь нет. Учительница учит кого угодно, но не собственного ребёнка, не в состоянии объяснить ей ни как вести хозяйство вообще, ни как, собственно, во всех смыслах стать женщиной или даже банальнее – как привести себя в порядок и правильно накрасить губы («Софья Андреевна сама не допускала её к участию в реальной жизни и не давала в руки даже кухонного ножа»). Заранее недовольная на то, в какого человека может вырасти ребёнок, мать с удовлетворением отмечает – да, в самом деле, в такого никчёмного и вырос, не заслуживая права даже в мыслях называться по имени. Мир постигается Катериной самостоятельно, но получается так себе – с детства никаких нормальных друзей, лишний вес и злость на всё на свете, особенно на собственную мать, вполне взаимное. На каждом шагу - непроизвольное сопротивление этой реальности – Катя не понимает, как приспособиться к миру, а тот не понимает, зачем ему Катя.
Катерина в итоге по-настоящему умеет только одно – воровать, и в тот момент, когда Славникова-реалист сдвигает эту местную вселенную и её реализм словно становится магическим, отражённым в кривом зеркале мутных поверхностей, окажется, что Катерина ворует не просто вещи, а саму сущность вещей; человек без свойств пытается хоть как-то их заполучить, но всё равно остаётся только отражением. Неизбежно её «выпадание» из реальности, уход в зазеркалье отражений, когда локальная драма каждой из участниц превратится из безобидной или хотя бы поправимой во что-то чудовищное, стрекоза станет драконом, постоянно вечное ограниченное пространство романа только в финале предстанет бескрайним, но и тут же сразу схлопнется. Жизнь, кажется, была, а может, её и не было вовсе, и только в момент смерти становится ясно, как же её страстно и горячо хотелось.
Долгая прогулка-2019, март

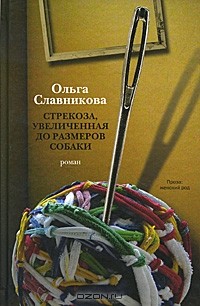

Комментарии
Одна из моих любимых книг, и Ваша рецензия, по-моему, лучшая из всех, на сегодняшний день прочитанных мной.
спасибо!
на меня тоже роман произвёл довольно сильное впечатление.
Понравилась рецензия. Заинтересовала книга.